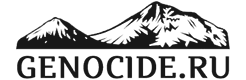Рубен Севак
ЛЕБЕДИ
Il est d`etranges soirs ou
Les fleurs ont une ame.
Albert Samain
Есть странные вечера,
Когда цветы обретают душу.
Альберт Самэн)
Молчаливая летняя ночь… Темнотой
окружен небосвод и безмолвьем объят,
лишь вдали огоньки, как звезда за звездой,
свой серебряный иней по капле струят.
Нет ни звука. Молчанье трепещет, сквозя
в бесконечном, бескрайнем эфире ночном,
и мигают огни городов, как глаза
человечьих существ, замороченных сном.
Высоко, в полуночных зеницах, вразброс,
Тень от скал отдаленных без просыпу спит,
А над ней перламутровый гребень вознес
Лоб альпийской громады, спесив и сердит.
В вековой колыбели меж парой хребтов,
погрузившись, как горная фея в туман,
сладко спит голубая душа ледников,
безмятежное озеро, гордый Леман.
Все спокойно вокруг. У далекой черты,
как лучистая пена, как песня наяд,
по дремотному лику недвижной воды
два серебряных лебедя моча скользят.
Как нежны, как прекрасны тела лебедей,
белоснежные крылья чеканно чисты,
а в стремительной грации мраморных шей
гибкость арок, венчающих замок мечты.
Как сближаются плавно они, как проста
лебединая ласка, как шепот во сне, -
о, с такой безотчетной любовью уста
никогда не сливались в ночной тишине!
Пенноснежные крылья вздымают, легки,
тянут гибкие шеи в небесный проем –
о, с такой безотчетной тоской две руки
никогда не сжимались в порыве одном!
Вдалеке полыхают огни городов,
выше – юрских отрогов безмолвный гранит,
а над ними – громады альпийских хребтов,
а над всеми – Земля, как свидетель, стоит!..
А внизу, на заснувшей воде, среди ив,
словно выполнив долг высочайшей судьбы,
свив печальные шеи, головки склонив,
стынут лебеди, как изваянья любви.
1907г.
ЛЕМАН
Гранту Т. Назаряну
Как сладостен вечерний ветерок,
овеянный дыханием заката.
Цветы вздыхают, птичий говорок
смолкает, тянет свежестью из сада.
Как сладостен вечерний ветерок!
Так нежно, как волшебный полог снов,
так трепетно, как взгляд, любви молящий,
струится сумрак в ниши берегов
и льнет к горе и зелени тишайшей –
так нежно, как волшебный полог снов.
В тени деревьев гордых, под горой
Леман мерцает сумеречным глянцем,
с изяществом кокетки неземной
льнет к берегу и плещется румянцем
в тени деревьев гордых, под горой.
Куда ни глянь – простор озерных вод
до гор альпийских, гребней их жемчужных,
до ронских нив, куда Леман несет
потоки волн лазурных и послушных.
Куда ни глянь – простор озерных вод!..
В тенетах тьмы сгущается простор.
Огней прибрежных множится мерцанье,
и снежное чело надменных гор
льет с высоты алмазное сиянье.
В тенетах тьмы сгущается простор.
Вздымая грудь взволнованной воды,
легко скользят челны в туманной дреме,
и песней изливаются вдали
уста в любовной сладостной истоме,
вздымая грудь взволнованной воды,
Леман, Леман, откройся мне в любви,
что волнами спокойными вскипает
в твоей лазурной трепетной крови
и гладь зеркал ознобом сотрясает.
Леман, Леман, откройся мне в любви!
Как в лихорадке, мчишь свои струи…
Скажи, в снега альпийские влюблен ты,
что грудь твою вздымают изнутри,
иль в грацию лебяжьего полета?..
Как в лихорадке, мчишь свои струи.
Леман, откликнись мне из пенных волн,
любовный зов с челнов, скользящих рьяно,
пленят нас, он страстью жизни полн.
Леман, в твоей груди пылает рана.
Леман, откликнись мне из пенных волн.
Леман, Леман, откройся мне в любви!
МОЯ ДУША
Я увидал большой листок в траве зеленой.
Весна была такой прекрасной, окрыленной,
и ликовали луг и пестроцветье трав,
хмель солнечных лучей сполна в себя вобрав.
Но в эту дивную минуту, изумленный,
я увидал больной листок в траве зеленой –
он трепетал и ник, смиряя гордый нрав,
едва лишь ветерком тянуло из дубрав.
Я в руки взял его и, преисполнен скорби,
в слезах прижал к губам, неловко плечи горбя
и думая: о жизнь, горьки твои дары…
Моя душа – листок, увядший до поры.
Кругом сияет май все радостней и краше,
а ей невмочь ни петь, ни улыбнуться даже.
Я увидал больной листок в траве зеленой…
1907г.
ЭДЕЛЬВЕЙСЫ
Ты безропотно думаешь: нет,
этой доли не переиначишь.
Блекнешь ты, а сдается, что плачешь,
эдельвейсов невзрачный букет.
Увядают твои лепестки,
и роса испарилась мгновенно.
Как тебя занесло в эти стены,
чтобы ты изнемог от тоски?
От болезненной тяги – туда,
к высоте поднебесной родимой,
горделивой и недостижимой,
где тебя не сыскать никогда.
Это явь или, может быть, бред?
Ты не знаешь и никнешь все ниже.
О, помедли, не вянь, погоди же,
эдельвейсов поблекший букет!
1908г.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ДУХ
(Любовная песня)
Скитальцу уготован путь возврата.
Печальный Дух, ты повстречался мне
там, где тебя покинул я когда-то, -
ты помнишь? – у ключа, на валуне.
Со дня разлуки, презирая сроки
и беспросветный взор вперяя в даль,
меня ты дожидался на дороге
и пел, чтоб в песне выплакать печаль.
А я в шальной тоске прошел полмира
дорогами, манившими в мечтах,
неслышней полуночного зефира,
грустнее, чем вечерний гомон птах.
Я поспешал вперед, паломник грезы,
и становилось их все меньше, грез,
однако ран своих больные розы
к туманным горизонтам нес и нес.
Мечты! Я бредил ими. Изначала
туда, где брезжил свет, мой путь пролег,
туда, где песнь любви еще звучала
и где мерцал надежды огонек.
Но, крылья обломав, венец пропащий,
к тебе вернулся, натерпевшись мук.
Ты – верный, подлинный и настоящий,
Печальный Дух, единственный мой друг.
Так будь со мною и даруй забвенье,
в мою ладонь свою ладонь вложи.
В моей крови – твое сердцебиенье,
в твоих слезах – вся боль моей души.
Почили наши замыслы благие.
Мир праху их! Обнявшись, мы вдвоем
в честь наших ран отслужим литургию,
мечты и грезы наши отпоем.
1908г.
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
«Положи меня, как печать, на
сердце твое,
как перстень, на руку твою: ибо
крепка, как смерть, любовь…»
Песнь песней (8.6)
Фантом бесплотный, тень, бездушный дух?
Луча иль пены мутное броженье?
Цветок безумья, прихоти ль недуг?
Как мне назвать черты без выраженья?
Фантом бесплотный, тень, бездушный дух?
Твой нежный взгляд синей озерных гроз –
живой портрет эфирного блаженства.
В твоем румянце цвет бенгальских роз,
мечтательная бледность совершенства.
Твой нежный взгляд синей озерных гроз.
В твоей слезинке пляски нереид,
в твоих устах такое вожделенье!
Твое дыханье, как зефир пьянит,
а голос – родниковой страсти пенье…
В твоей слезинке пляски нереид.
Чарует взгляд, ласкающий меня,
а грешный ладан вьющегося стана
елейней ханаанского вина –
благоуханье мессы, о осанна!
иль мерзкий блуд, сжигающий меня?
Волшебница!.. О, твой хрустальный торс,
знобящий шелест бедер исступленных
и кожа в гриве огненных волос,
и ореол лучей, в тебя влюбленных…
Волшебница!.. О, твой хрустальный торс!
Всю ночь я буду страсть превозмогать,
чтоб не коснуться рук твоих руками,
но сердце будет грудь твою ласкать
и до утра исстаивать слезами….
Всю ночь я буду страсть превозмогать.
Напрасно! Всей душой увязну я
в твоих сосках, от страсти непорочных,
в твоих подмышках, заново любя
все, что томит меня в мечтах полночных…
В тебе хочу душой увязнуть я.
Дитя с глазами северной зари,
в твоих зрачках, что мне сияют тало,
одно блаженство! Что ни говори,
земля такого чуда не рождала,
дитя с глазами северной зари.
В НОЧИ
Кто там за дверью?.. Неужто опять…
Голос, взлетевший по лестнице вспять,
внятный до смеха, до плача – кого
вдруг окликает? Никто, никого!
Теплится свечка, и сумрак ночной
мертвой пещерной сквозит тишиной.
Сдвинулись тени, окутав окно,
и дружелюбно кивают мне. Но…
Кто там за дверью? Кому не до сна?
Или взахлеб причитает стена
сказку могильную? В голосе дрожь…
Как на меня этот голос похож!
Сумрак ли шепчет, приникнув к окну?
Я ли, покинутый всеми, всплакну?
Ветер срывает осеннюю медь.
Он ли стучится? Ну кто там, ответь!
1909г.
ПОЦЕЛУЙ
- Душа моя! Ты здесь? – вдруг голос возрыдал.
Ночной апрельский мрак удушлив был и сиз.
Вздыхая меж кустов поток струился вниз,
в объятьях сжав луну. И тут я увидал:
-Душа моя! Ты здесь? – в стремительном броске,
как вихри, что в буран свиваются столбом,
две тени, две души в порыве роковом
метнулись и сплелись на сумрачном песке.
Как странен воздух был в таинственный тот час,
ознобом, как стыдом, насквозь меня прожег,
и до сих пор в зрачках вспухает влажный ток!..
Как вспомнив эту ночь, волнуюсь всякий раз…
О счастье юных лет, о прелесть милых губ,
как в бездну, в поцелуй сорваться и, любя,
забыть про все вокруг и даже про себя,
и пусть дивится мир, как весел ты и глуп!
Увянет цвет любви… Открылось не вчера,
что розам без шипов никак не обойтись.
Пора испить печаль, терпеньем запастись.
и о сырой земле задуматься пора.
-Душа моя! Ты здесь? – Застыли в темноте,
уста к устам прижав, как будто вечно длить
дыхание могли и жизнь свою делить –
о, сколько страстных мук в любовной немоте!
Со страхом я глядел, не в силах превозмочь
тревожной мысли: что судьба готовит мне?
О смерти думал я, о страшном судном дне!..
Когда в озноб и жар меня бросала ночь…
СНЕГУ
В сердце факел засветил,
мрак упал и пламя смял.
В сердце розы я взрастил,
снег упал и в плен их взял.
Волей гордости мужской
я бессмертья пожелал,
и сладчайшею весной
возлюбил и возрыдал!
Смокла музыка в груди,
смерть играет и нытье.
Цвет ростков моих прости,
снег, лилейное ничто…
Сердце мне не мучай впредь,
сбавь мечты безумной бег,
белый Бог, седая смерть,
ибо ты прекрасней всех.
Страсть, улыбка – только звук,
есть одна реальность – ты,
жизнь – смешной фиглярский трюк,
смерть – владычица тщеты.
Поцелуям, о слепой,
глупым розам верил я,
Богом древности самой
я напрасно мнил себя…
Ветерком я не летел,
пастушком ли мне свистать?..
Пламя звезд украсть хотел,
чтоб бессмертным солнцем стать.
Но студеным языком
молвишь: солнцу свой черед.
Сердце в скопище людском
черной каплей истечет.
Ласку, шепот влажных губ –
надо все это забыть,
чтоб сквозь звуки судных труб
в смертной бездне воспарить!..
В ЧРЕВЕ ПОЛИСА
(Подразумевается Константинополь)
С тяжкой душой, в безотчетной тревоге
вновь повели меня старые ноги
ночью глухой по Греховной дороге.
Место искал я, где в юности бурной
в тайном убежище страсти амурной
зря рассыпался я пеной пурпурной.
Тот же квартал и мотивчик гадливый,
тех же свиданий душок похотливый,
туши мясные и столб сиротливый.
Глянул на них, и они оглянулись,
словно к морщинам моим прикоснулись!
В сердце угасшем рыданья проснулись.
Город Греха!.. Что ты делаешь, вечный,
жизней людских пожиратель беспечный?
Падшие сестры в земле подвенечной…
Похоти тайной не грех предаваться,
можно любому, как вещь, продаваться,
хоть идиоту, что рад торговаться…
Сестры!.. Вы – розы презренья мирского,
горький плевок в мире зла и раскола
в тухлые легкие рода людского!
Там… хоть Потоп или меч без пощады,
Голод, карающий веси и грады,
гибель всего человечьего стада…
Пусть!… Здесь «латерна» должна
раздаваться,
хмурые пары – хмелеть, целоваться,
Ольга, Марика – шутя продаваться.
Розан кровавый бредового сада
на византийских развалинах ада,
вечная Мина Греха и Разврата!..
Плотский бокал твой, что вылеплен тьмою,
пьет недоверчиво племя земное,
ибо его не утешит иное…
Ядом Содома прося насладиться,
Запад Востоку протянет блудница,
там, где целебный Босфор серебрится!
О, как ужасно оскалом щербатым
блещет изнанка медали проклятой,
где – ЧЕЛОВЕК! – отчеканено златом.
Пера, 18 июля 1909г.
ГИБЕЛЬ
Крик… еще один крик… бесполезный, над
бурею мчится
К берегам заповедным… над морем без дна и
границы
Молча ласточек стая усталая машет крылами,
И одна, выбиваясь из сил, отстает и кричит
над волнами.
Она знает, что скоро умрет, и в душе
заблудившейся птицы
Даже веры в бессмертие нет, чтоб надеждой
забыться,
Чтобы был озарен миг последний обманом и
снами…
Знает лишь, что уже угасает в душе ее пламя,
Что ревущая бездна совьет в бесконечный
клубок
Пилигримов останки и жертвы безбрежных
дорог.
И не видно вдали ни земли, ни небес, ни
огней…
Смерть! О, только не смерть… а лететь все
трудней и трудней…
Падай, падай же! В бездну ли вод, на земную
ли твердь,
Мигом раньше ли, позже – придет
неизбежная смерть.
1 марта 1909г., Лозанна
КРАСНОЕ ЗНАМЯ
«Голодных, безработных горький ряд!
напрасно к небу устремлен ваш взгляд,
измученные горожане, - в бой!
Ты, женщина, и ты, старик седой!»
Свистят сурово зимние ветра,
крик ярости несется со двора,
он рокотом пронизанный глухим,
как долгим эхом: «Хлеба нам, живым!»
Забилось сердце бешено во мне.
Мольба о хлебе в снежной тишине!..
Вскочил с кровати, сонный и босой,
и распахнул окно… О, Боже мой!
Я понял все, заплакал я навзрыд:
народ с мечтою о ломте стоит.
Как муравейник, тысячи людей,
столпились, копошатся у дверей.
На них ложатся снежные пласты,
белы, как безнадежности цветы.
Ночь обступила морем темноты,
как заговор жестокой нищеты.
Сквозь рокот тыщеустный и глухой
работы раб, согбенный и худой,
с кареты ветхой горько изливал
слова проклятий, возмущенья вал.
И низвергались речи на толпу,
на бесприютную ее судьбу, -
так воды бьют о скалы по ночам…
И океан явился: «Хлеба нам!..»
* * *
«Одни спят в атласе, а другим
спать на камнях по улицам кривым;
одним жить под узорным потолком,
другим – в подвале, жалком и сыром.
Над прахом одного лежит гранит,
другой, угаснув, в рубище лежит…
Есть дом у птицы, песня в добрый час,
но почему проклятье лишь у нас?
Украшен храмами наш белый свет.
Во имя Бога? Но ведь Бога нет…
Для бедных сирот нет нигде угла,
для бедных женщин воля тяжела.
Доколь богатым на поту рабов
готовить сдобу пышных пирогов
и яства для их выхоленных псов,
когда ни крошки нет у бедняков?»
* * *
Сошел с кареты пламенный старик,
и огласили полночь вопль и крик,
и, как на сцену, на карету вновь
восходят люди, - им не прекословь.
Неграмотных людей суровый ряд –
голодные желудки их твердят
слова простые о своих правах,
протест на посиневших губах.
И снова в шуме слышно: «Хлеба нам!»
Внимает молча люд святым словам, -
о, голос справедливости самой,
ей не витать над скорбною толпой.
* * *
Крик исступленный прогремел вдали,
в сыром тумане траурной земли,
как пламя, величаво над землей
взметнулось знамя красное судьбой…
Был грустным и подавленным мой взор,
смотрел на люд я, что в ночной простор,
как черный призрак, горько уходил,
бездомный, обездоленный, без сил…
Куда вы, люди?.. Как все голодны!
Покинутые Богом без вины,
Покорные шли на безмолвный зов,
чтоб чашу сотворить иных весов.
Мне показалось, что судьбы крыло
над ними неожиданно взошло;
шли на борьбу они, добиться прав,
шли к справедливости, вконец устав,
что наступить должна, им засияв.
1909г., Лозанна
КРАСНАЯ ТОСКА
Скажи мне, путник, ты прошел затерянным
селом,
что прижимается к груди величественных
скал,
и с древних стен, горбатых крыш,
порушенных огнем,
глядит, как грустно бьет прибой, вздымая
мутный вал?
Скажи мне, путник, ты прошел затерянным
селом?
Ты видел ветхие дома, поверженные в прах?
а на пороге стариков, и бедные дворы,
и в сгустках крови, что спеклась на тесанных
камнях,
пугливых ящерок, с утра сомлевших от
жары?
Ты видел ветхие дома, поверженные в прах?
Ты узкой тропкой прошагал, что вьется
между гряд?
давно сровнявшихся с землей, ты это видел,
друг?
Сквозь полусгнившие мостки, петляя наугад,
бежала ль тропка, чтоб потом исчезнуть в
поле вдруг?
Ты узкой тропкой прошагал, что вьется между
гряд?
Скажи мне, путник, видел ты цветущие
сады?
где зреют гроздья, где плоды висят в тени
густой,
скажи, пшеничные поля по-прежнему
желты,
переливаются они волною золотой?
Скажи мне, путник, видел ты цветущие
сады?
Взглянул ли ты с ночных вершин, с глухих
отрогов вниз,
когда беспечный ветерок ласкается любя,
и волны в пенном серебре подхватывают
бриз
в тот час, как мертвое село баюкает себя?
Взглянул ли ты с ночных вершин, с глухих
отрогов вниз?
А в лунном свете видел ты погоста длинный
ряд,
что притулился не дыша на краешке горы?
Там вровень с рыхлою землей страдальцы
наши спят,
и после смерти лица их спокойны и добры.
А в лунном свете видел ты погоста длинный
ряд?
Годами я томлюсь тоской по этим небесам,
по этим землям, родникам в звенящей
тишине,
по расцветающим садам и птичьим голосам,
по дому, где родился я, по скалам, по луне…
Тоскою красной я казнюсь по этим небесам.
Скажи мне, путник, ты прошел затерянным
селом?
10 августа, 1908г.
КОЛОКОЛА
Проснитесь, добрые колокола!
Кто вырвал языки вам из гортаней?
Кровь просит слова, а не бормотанья.
Довольно вам молчать, колокола!
С какой поры ваш медный звон покрыт
Молитвами, как кожурою пыльной,
И дышит гарью ладан ваш могильный,
Не в силах горя высказать навзрыд?
Или устала вековая медь?
Но если зло творит расправу
С добром, то, значит, онеметь пора вам –
Не веря в Бога, смирно онеметь!
Вы увидали с вышки в эту ночь,
Как сотни тысяч христиан во храме
Повержены дубьем и топорами
Иль в ужасе шарахаются прочь.
Вы увидали весь простор земной,
Который пламенем костров увенчан,
Сожженье стариков, детей и женщин
И божий трон, засыпанный золой.
Смотрите же! Вот трупная гряда
Уперлась в тучи, страшно вырастая.
Заражена гангреной вся святая
Рать ангелов, ленивая орда.
Где обещанье, что давал наш крест?
Где братство? Где порука круговая?
Земля блюет, в пожарах изнывая,
Разбухли реки трупами окрест.
Все, кто страшится, на землю ложись!
Меч, а не крест владеет правдой ныне.
Кто храбр, тот и ликует. Прочь унынье!
И он у ближнего отнимет жизнь.
Да, ибо дни иные далеки,
Когда ягненок с волком подружится.
Ягненку надо в сталь вооружиться.
И наточить с младенчества клыки.
Я раскачал бы вас! Я бы хотел
В металл ваш впиться пальцами своими
Во имя всех, что пали, и во имя
Непогребенных сотен, тысяч тел.
Иль в вас оглох души моей свинец?
Гуди и вой, и с бешеной отрадой
Сорвись с железных гнезд, и падай, падай!
От века вы оплакивали падаль.
Раззванивайте! Бога нет. Конец.
2 июня 1909г., Лозанна.
О, МОЯ РОДИНА…
В память о пролитой в Киликии крови…
(Во время кровавой вакханалии, учиненной младотурками
в апреле 1909 г. в Киликии, было убито 30.000 армян.)
Как упоительна ночь и ясна!
Как безмятежно окрест и дурманно!
Болью своей объятый, без сна
долго и грустно брожу у Лемана.
Как упоительна ночь и ясна…
Тихие мерные всплески весла
кажутся музыкой парочкам юным.
Павшая с неба звезда проросла
нежным цветком в этом озере лунном.
Издали слышатся всплески весла.
Чудною, сказочною целиной
Альпы над миром снега взгромоздили
и серебристо блестят под луной –
древним свидетелем новых идиллий.
Снег на вершинах лежит целиной.
Как беспредельна и сладостна ночь!
Всюду – от выси, луной озаренной,
до онемелых таинственных рощ
и до полей, омываемых Роной, -
и беспредельна, и сладостна ночь!
Ну а тебя, о родная стран,
всепожирающий пламень кровавый
гложет, и заревом озарена,
жертва чудовищной, зверской забавы,
ты издымилась, родная страна.
О, моя родина дальняя, где
лебеди, что на Евфрате и Ване
в побагровевшей от крови воде
белым и чистым крылом упованья
грудь рассекли бы жестокой беде?
Край Араратский, священный мой край,
где же сегодня твои пасторали,
где он, наивный мифический рай,
как же мы все это порастеряли,
край Араратский, священный мой край?
Феи армянских задумчивых гор,
где они, песни, что прежде вы пели,
чтобы их ветер унес на простор,
и отчего приумолкли свирели,
феи армянских задумчивых гор?
Боже! Преследуют вопли меня
тех, кто под ветром судьбы ураганным
прочь убегает от моря огня,
тех, кто слепым поражен ятаганом,
вопли повсюду терзают меня:
«У-у… Это мы, это мы, это мы!
Меч нас разит, опаляет нас пламя,
нет нам спасенья от горя и тьмы,
гонится смерть неотступно за нами,
наги мы и обездолены мы.
Мы погибаем, последки кровей
древних и славных – дрожащие дети
да старики, - нас несет суховей,
нас не останется скоро на свете,
жалких последков армянских кровей.
Будьте вы прокляты! Пусть на века
кровь наших ран застилает глаза вам,
пусть захлестнет вас несчастий река
и да соткет вам грядущее саван!
Будьте же прокляты вы на века!»
Как упоительна ночь и ясна!
Пойте ж от счастья! Да будет воспета
этого озера голубизна
и безмятежность блаженная эта.
Как ваша ночь и хмельна, и ясна!
Долго брожу я… Броди же, глупец,
слезы смиряя в душе и унынье,
рвись по курганам убитых сердец
к родине, жутью охваченной ныне.
Выхода нет. Так броди же, глупец!
И вдалеке от пожарищ и бед,
к лире припав, с неизбывной любовью
пой о злосчастье, изгнанник-поэт,
гор непокорных, затопленных кровью,
пой вдалеке от пожарищ и бед.
В тяжком отчаянье сердце скрепя
так и броди, одиноко и слепо.
Ну а доколе? Пока для тебя
не прояснится угрюмое Небо,
жди в одиночестве сердце скрепя.
Лозанна, 4 мая 1909г.
ТРУБАДУРЫ
Друзьям-поэтам
Взгляни на трубадуров – вот они!
Беспечны, ветру вольному сродни,
На площади теперь они играют.
И люди ставни полуоткрывают –
Послушать их. Невыносимый зной.
Но все поют слова любви смешной
Трубадуры.
Необычайны лица у мужчин,
А спутницы в отрепьях. Им – один
Удел бродяжничества и лишений.
Брезгливой улицей унижен гений.
Но вдохновенен их заветный труд.
От голода, но с песнями умрут
Трубадуры.
Ветра, невзгоды – жизнь горька, грустна,
Печалью черной до краев полна.
Познанье жизни в их улыбке темной.
Но есть и радость в их судьбе бездомной.
Взъерошенных волос каскад седой
И смех бунтарский, вечно молодой
У трубадуров.
Ведет искусство их тропой одной
От лох веселых, что возделал Ной,
До желтизны медлительного Нила
И до Урала, где их поманила
Гряда багряной Огненной Земли.
Друзей похоронили там, где шли.
Трубадуры.
Железный и машинный этот век
Их радостного духа не рассек.
В столицах, там, где золото кумиром,
Свои сердца они вверяют лирам,
В труде возвышенном пылают дни.
Природы вольной сироты они,
Трубадуры.
Меня возьмите – из страны в страну.
Я жизнь иную, новую начну.
Рыдая, петь и равнодушье бычье
Осмеивать: познать земли величье,
опасности стремнин и горных рек!
Мы – пилигримы скорбные навек –
Трубадуры.
Мы – пилигримы, мы – поэты, мы –
Свободные и гордые умы.
Владыки песни. Мы – в туниках рваных,
Нас душит голод, наше тело в ранах,
Мы непонятны, мы – трагедий весть,
Поэты и пииты! Мы и есть
Трубадуры.
Из раны сердца наша песнь взошла.
Судьба забывчива, коварна, зла.
Другим она сулила ликованья,
Стол пиршества. Дорогою изгнанья,
На три тысячелетья опоздав,
Идут, готовы к смерти у канав.
Трубадуры.
Но не скорби! Ужель ты не богат?
Все – наше; вдохновение – твой сад.
Все наше – росный луг, закат безмолвный,
Цветенье розы, и морские волны,
И кладбище с могилою в тени.
Похожи на былых богов – одни
Трубадуры.
Мы едко осмеем с пером в руке
Коварство мира в краденом венке.
Мы – смертники, но не умолкла лира:
Мы – не рабы у властелинов мира.
Свободу слова защищай, как лев!
В нас яд, но мы бессмертны, умерев,
Трубадуры.
Ужель необходимо нам на торг
Нести сердца, чтоб вызывать восторг?
Нет, служим цели мы одной, великой,
Слагая наши песни для рамика.
(простлюдин (арм.))
Кто «смерть однажды лишь» – изрек?
День тьмы –
Наш каждый день. Так умираем мы,
Трубадуры.
Смех соглядатаев нам нипочем.
Пусть подступает голод к нам с ножом.
Как пастыри, живем высокой целью
И человечество своей свирелью
Ведем вперед, неся свободы весть –
Искусства мертвого живая ветвь –
Трубадуры.
Ах, дожили мы до худых времен!
Кто благороден – попран и казнен.
Во гробе сердце схорони живое!
Повсюду золота коварства злое.
Лишь мы одни все те же. И сейчас
Любить желаем… Кто же любит нас
Трубадуры?
Ты умерло, искусство славных дней,
Когда сливались жизнь и песнь. О ней,
О жизни пело столько безымянных,
Шагавших в их плащах багряных
Из замка в замок, с лирою в руках.
И эта песня не умрет в веках,
Трубадуры!
Гомер, ты трубадуров всех – отец!
Хвала тебе, божественный слепец,
Восславивший героев громогласных.
Моя мечта о всех творцах прекрасных
В любом столетье и в любом краю.
В певцах гохтанских вас я узнаю,
Трубадуры!
(Провинция Гохтн в Древней Армении была
известна своими певцами и поэтами.)
Мне душно – сердце кто-то сжал в кулак, -
Когда смотрю сквозь ставню на бродяг.
Пою с натугой, вяло, как попало…
На плаху песню золото послало.
Свободное искусство – прах глухой.
Теперь поют с протянутой рукой
Трубадуры.
На площади, где беспощадный зной,
Канючит голос хриплый, жестяной.
Под эти звуки просит подаянья,
Прохожим шляпу протянув в молчанье,
Старик в морщинах резких, как рубцы.
Мы новой эры, новые творцы –
Трубадуры.
Лозанна, 18 августа, 1910г.
КАК ТЫ БЛАГОСЛОВЕН, РУЧЕЙ!
Кто наивную песню споет о твоей
красоте безыскусной, вода ключевая,
и о том, что среди луговин и полей
ты по древнему руслу течешь, напевая,
что тебе все отраднее жить и милей?
Кто расскажет, ручей, о стремленье твоем
к вековечной мечте – диким розам на склонах,
и о том, как ты пенишься ночью и днем,
и о травах, в тебя безнадежно влюбленных,
у излуки на взгорке отлогом лесном?
Кто нам сможет поведать в полуночный час
о шуршании гальки, о вздохах ракиты,
заглядевшейся в тысячный, может быть, раз
на тебя и о тайнах, которые смыты
в глубине твоих быстрых, изменчивых глаз?
Ты сызвека не знаешь друзей и родни,
ты, ручей, не боишься ни бури, ни шквала,
и когда умирают в ненастные дни
луговые цветы – как ни в чем не бывало
ты поешь неумолчно, как пел искони.
Как ты благословен! Ты бессмертен, ручей!
Нет, не станешь ты старше, как не был моложе.
Сколько лет и веков, сколько дней и ночей
ты струишься в своем нескончаемом ложе
и беспечно журчишь… Ты бессмертен, ручей.
И когда я уйду за рубеж бытия –
я, придумавший строки корявые эти, -
стихотворец объявится, глупый как я,
чтобы в сети созвучий – бессильные сети –
уловить эту дикую песню ручья.
И пока ты журчишь все звончей и звончей,
насмехаясь язвительно и быстротечно
над искусством и бренностью дел и речей,
ты пребудешь бессмертия тенью навечно.
Как ты благословен! Ты бессмертен, ручей!
1908г.
ПРИДИ!
Приди, приди дорогою мечты!
Я запалю в честь встречи факел сердца.
Мост мук моих безлюден – там лишь ты.
Мы встретимся, как два единоверца, -
приди, приди дорогою мечты!
Приди, я твой –твой раб и господин.
Пусть грешен я, но так судьба судила.
Я за тобой тянусь, наш дух един,
Я – для тебя кадимое кадило.
Приди, я твой –твой раб и господин.
Я только певчий храма твоего.
А ты? Ты плоть моих бесплотных песен,
Ты нимфа юная, ты божество,
мир без тебя мне чужд, и пуст, и пресен,
Я только певчий храма твоего.
Я переполнен именем твоим.
Тебя поют семь ран моей свирели,
и эта песнь грозит безумьем им –
они окровенились, обгорели…
Я переполнен именем твоим.
Дай мне твой алый, точно рана, рот
и к вожделенной сладостной темнице –
твоей душе – открой скорее ход,
чтобы исчезнуть в ней и раствориться.
Дай мне твой алый, точно рана, рот.
Охапку лилий я несу тебе
и лавр моей известности убогой.
Пойми меня, прислушайся к мольбе
и розу страсти пощади, не трогай!
Охапку лилий я несу тебе.
Приди, приди, приди, чтобы любить!
Тот, кто не любит, отдается смерти.
Любовь – жизнь жизни, как же не избыть
своей тоски в любовной круговерти?
Приди, приди, приди, чтобы любить!
1911г.
ПРОСТИТУТКА
Григору Зохрапу
Было за полночь, и дождик лил в безмолвии
сыром.
Ты печальная стояла под унылым фонарем.
А вода бежала стыло по булыжной мостовой.
Но стояла, поджидала ты удел зазорный свой.
А во взоре – плач улыбки, плач во взоре неживом.
Краска на губах порочных – боли жалкий окоем.
Груди полные томятся не утехой, а тоской.
В них дождливой этой ночью страсти нету никакой.
Нет ни выбора, ни чувства – просто дрожи не
унять.
И в обмен на хлеб насущный – цель нехитрая твоя –
Благосклонному Мужчине тело мокрое отдать.
Состраданье ощутил я – вроде слабого тепла.
И тебе принадлежал бы этой бедной ночью я,
Если бы слеза шальная щеку холодом не жгла…
Было за полночь, и дождик лил в безмолвии
сыром…
1909г.
ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ
Царевна, нежная, как солнечный рассвет,
Со лба мне руки отняла: «Аспет,
(Рыцарь (арм.))
Ты плачешь?» - «Нет, - ответил я сквозь слезы.
Уйди! Не мучай! Воины, в пыли,
Из-под знамен моих надежд ушли».
«Куда, ты знаешь?» – «Нет, - ответил я сквозь
слезы.
Они летят, и в гордой укоризне
Шлют стрелы солнцу, как проклятья – Жизни».
«Они вернутся?» – «Нет, - ответил я сквозь слезы.
И я один, бессильный и немой,
Ты, искусительница, вновь со мной».
«Люби меня». – «О нет», - ответил я сквозь слезы.
1911г.
ВСАДНИК
Не знаю кто, Бог весть куда,
всегда, в жару и холода,
неуследимый как беда,
он молча мчит Бог весть куда.
В закатный час, смиряя страх,
я вижу тень на облаках –
суровый рыцарь впопыхах
проносится Бог весть куда.
Он мчит, а за его спиной
скелеты движутся стеной;
скакун горячий вороной
его несет Бог весть куда
Я слышал, он обет блюдет
его любовь и слава ждет
и ждет могила, где найдет
и он покой – Бог весть когда.
1911г.
ОТЧЕГО?
Милая, как славно ты жила!
Отчего меня ты полюбила?
Право, мотылька б тебе хватило –
ты пленила старого орла.
Как ты безоглядна и смела,
как юна, свежа и легкокрыла!
Шепотка любви б тебе хватило –
ты зловещих выкриков ждала.
Сколько я терял! И сколько зла
испытал! Мой каждый след – могила.
Ветерка любви тебе б хватило –
против урагана ты пошла.
Выгорят глаза твои дотла,
столько в них огня и столько пыла.
Маленькой любви тебе б хватило –
Ты любовь, ты Бога избрала…
1911 г.
АРМЕНИЯ
Кто это плачет под дверью в мороз?
- Странник, сестра, отвори…
Уж не скелет ли там, хриплый от слез?
- Голод, сестра, отвори…
В щепы топор мои двери разнес.
- Это резня, отвори…
1913 г.
ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ
Среди давно заброшенного сада,
Забытый в сутолоке городской,
В горсти воды за каменной оградой
Жил лебедь одинокий и седой.
Здесь, на аллеях брошенных, часами
У черных скал в погожие деньки
Сидят с полузакрытыми глазами
И греются на солнце старики.
Не слышно птиц. Все полно тишиною.
Лишь пальма, простирая над прудом
Задушенные чуждою землею
Побеги, дышит часто и с трудом.
Раскинулась над грязною воронкой
Пруда – тень экзотических дерев,
Как будто с лапой на груди ягненка
Сидит огромный горделивый лев.
И ничего… Лишь лебедь поседелый,
Задумавшись о прошлом, чуть плывет,
Скользит, едва покачивая тело,
Так, как оно скользило в безднах вод.
О чем ты грезишь этим жарким летом,
Забившись в камыши? Весь мир зачах –
Но призраки серебряных рассветов
Вновь расцветают в одичавших снах.
Ты упиваешься свободой прежней,
Когда под опьяняющей луной
Огромною кувшинкой белоснежной
Ты плыл в бескрайней шири водяной.
А нынче, посреди горсти водицы,
Ты, лебедь, и для смерти не припас
Ни жалобного крика дикой птицы,
Ни песни, чтоб запеть в последний раз.
Ницца, 1912 г.
ИДТИ
Идти, идти, идти, с судьбою не лукавя,
без шума и торжеств, не думая о славе,
как тихий ручеек, укрытый в разнотравье.
Идти невесть зачем, идти невесть куда,
идти тайком от всех, минуя города,
идти ночами и не оставлять следа.
Идти, идти, идти, без света и лампады,
не ведая ни слез, ни горя, ни отрады,
и не питать надежд, и не желать награды.
Знать, что среди людей никто тебе не друг,
глухим, слепым, немым, людских чуждаясь мук,
бежать как от чумы от Слова и Наук.
И не догадываясь, что ни здесь, ни там
нет идеалов и поруган правды храм,
паломником идти к далеким берегам.
Нематерьяльным стать, стоять вне жизни где-то,
сомнамбуле под стать, и, сознавая это,
уже в ночи не ждать восхода и рассвета.
Вдали от Бога и людей, сестра, с тобою
идти – рука в руке – дорогою любою,
точь-в-точь Мечта и Любовью.
Лозанна, 1912 г.
СКЕПТИК
Ты знаешь, как сладкогласно пенье
Рожденной с новою весною птицы?
Вокруг – любви и жизни пробужденье.
И все готово в песню превратиться.
Ведь это первая ее весна.
Она поет; а жизнь наполовину
Прошла; и вот уже окаймлена
Засохшей пылью зелени долина.
И, значит, лгали роза и заря,
Лгала заря и хитрые цикады,
И страсти песнь, растраченная зря,
Свистит в ветвях осенним листопадом.
Ты знаешь ли, как безутешно пенье
Последнюю весну живущей птицы?
Вокруг – любви и жизни пробужденье,
А ей – ей скоро в пепел превратиться…
* * *
И ты ко мне придешь весною новой,
Усыпанная свежими цветами –
Ты вновь придешь – и вновь душа готова
Ловить твой смех влюбленными устами,
Приди, и я хочу забыться, зная,
Что тысячи прошли по свету – что ж,
Я вновь, как птица, петь тебе желаю
И верить в опьяняющую ложь.
Ты знаешь, как печальна песнь поэта,
Боящегося страсти, как темницы –
Вокруг него – сияние рассвета,
А он – он скоро в пепел превратиться…
1913г.
СВИРЕЛЬ
О, свирель, стебелек мой нескладный,
человек ли тебя сокрушил
или же ураган беспощадный
обломил, иссушил, закружил?
Кто тебя обточил так жестоко
и прожег, будто вместив злость?
Без росы по утрам и без сока
ты усохла и стала что кость.
Мне вовек не унять этой боли,
не утешить, не сгладить вину.
Пусть тебе не цвести на раздолье,
жизнь и душу в тебя я вдохну!
Так приблизься, свирель, и ответствуй:
разве мне не достанет тепла,
чтобы песня из раны отверстой
как цветы по весне проросла?
Я слезами, скорбя и тоскуя,
эти раны омою твои,
и тебе лишь поведать смогу я
о своей потаенной любви.
Мы уйдем, чтобы выплакать горе,
вдаль, где отроду не был я сам.
Пусть родник изливается, вторя
нашим песням и нашим слезам.
Пой же так, как ты плакал той ночью,
весь в зеленых ростках стебелек,
когда буря ярилась и молча
ты на землю холодную лег.
Ты дороже насущного хлеба.
Я отдам тебе душу стократ.
Ты же песню даруй мне, и небо,
и свободный полет, и возврат.
1912г., Лозанна
ПЕСНЬ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ
Пусть жизнь моя будет тягучей мольбой,
глухим причитанием, песней пространной,
и сердце, которое полно тобой,
да будет зияющей сладостной раной.
Пусть жизнь моя будет тягучей мольбой.
Я грусть полюбил, хоть она и остра,
как терн под зеленой и нежною кроной.
Как кромешная темень, сестра,
в душе моей, взглядом твоим осененной!
Я грусть полюбил, хоть она и остра.
Приди же ко мне, как луна хороша,
яви мне свой призрачный свет стеаринный
и вмиг освети, ликованьем дыша,
надежды моей безнадежной руины.
Я – Смерть, ты же будь, словно Жизнь, хороша.
Я твой навсегда с головы и до пят.
Пусть в песнях моих твое имя струится,
пусть жизнь моя пенится, как водопад,
который к тебе, низвергаясь, стремится.
Я твой навсегда с головы и до пят.
Глаза твои – две эти бездны люблю,
они как сосуды с вином причащенья;
припав к ним, я сердце и дух укреплю,
очищусь, как грешник, принявший крещенье,
Глаза твои – две эти бездны – люблю.
Приди же ко мне, как пришла в мои сны,
и я прошепчу с нерастраченной силой
слова, что могучи, как Смерть, и грустны,
как ветер над тихой моею могилой.
Приди же ко мне, как пришла в мои сны.
Я словно челнок, запропавший средь волн.
Так дуйте свирепей, ветра, и не верьте
мольбам и рыданьям, несите мой челн
из бухты Любви прямо к берегу Смерти.
Я словно челнок, запропавший средь волн.
Шампери, 20 августа 1910 г.
СТАРИННЫЙ МОТИВ
Посвящается Аршакуи Теодик
Должно быть, к нам ветры тебя занесли
сегодняшней ночью из дали далекой,
и сердце исполнилось снежной дорогой,
неведомой, грустной, до края земли.
И, тотчас печалью своей захватив,
навеяв мечту о возвышенной доле,
как отзвук молитвы, щемящей до боли,
ты льешься в окошко, старинный мотив.
И все повторяясь, опять и опять –
простой, незатейливый и безыскусный, -
с порывами вьюги томительно-грустной
доносишься ты, и куда уж там спать!
О, как ты трепещешь! И, оторопев,
я вздрогну, не в силах с догадкой расстаться:
отходная жизни моей, может статься,
бесхитростный твой и наивный припев?
А ветер, врываясь в полночную тьму,
тебе подражает – бесцельно, без толку.
О чем ты рассказываешь втихомолку
деревьям и плачут они почему?
Метельная ночь в заснеженном окне
наивным, простым, безыскусным, тоскливым,
щемящим до боли старинным мотивом
сомнения разбередила во мне.
Мотив оборвался вдали. Но звучат
знакомые нотки средь ночи кромешной.
Душа растревожена и безутешна
и плачет умершей мелодии в лад.
1909г.
НОЧЬ
В память брата Гайка
Становится бескрайним небосвод,
Деревню поглощает темнота,
Меняются привычные цвета,
Мгновение – и все кругом замрет.
Смыкают розы очи-лепестки,
Деревья спят, раскинув руки щедро.
И на воздетых к небу ветках кедра
Мерцают золотые огоньки.
Природа погрузилась в сладкий сон,
И только одинокой птицы стон
Тревожит помутневший небосклон.
И в этой беспробудной тишине
Она поет – со мною и во мне –
И молча плачу я один – во сне.
1914г.
ЗВЕНЯЩАЯ СМЕРТЬ
Поэт спросил – куда, ручей,
Бежишь ты – посреди полей,
В глуши лесов, в тени ветвей…
Цветок и лист тебя зовет,
Питает ток журчащих вод
Слеза росы и небосвод…
И, бликами луны играя,
Куда, в ночных полях без края,
Стремишься ты, себя теряя?
Твой век отмерен – и вскоре
Тебя, ручей, поглотит море,
Похоронив в своем просторе.
Ручей шептал: пускай поток,
Стремяся вдаль, как ты предрек,
Слезами смоет твой упрек.
Пусть наша смерть близка, как сон –
Но день и ночь звенит мой стон
О том, как в землю я влюблен.
Поэт уж песню пел в мечтах.
И к Смерти ручеек в лугах
Стремился с песней на устах…
1914г.
ВЕЧНАЯ НАСМЕШКА
Я – как великан, полоненный в неравной войне.
Шагаю, смеясь – только душу знобит в западне,
Взмывает она в пустоту и, вернувшись назад,
Бессильно глядит, как железные цепи гремят.
Уже одиночества тень в ледяной вышине
Ползет узловатыми пальцами трупа ко мне.
О непережитых страданьях уста говорят,
И лира в руках – погремушка для малых ребят.
Исчез я, как грезы, погиб, как языческий бог,
О скольких страданьях словами сказать я не смог,
Над всем насмехаясь и, значит, смеясь над собой –
Я в мантии рваной король, вознесенный судьбой,
И шут королевский, играющий скептика роль –
И плачут, обнявшись, бездомные шут и король.
1913г.
ВОСТОК
С окраины Скютара, что к морю обращен,
(Скютар или Искютар – квартал в Константинополе.)
в печальное раздумье душою погружен,
пью солнца яд елейный, и бреда горячей
бесчисленные струйки сгорающих лучей.
На взгорке дряхлый ослик, всего лишь в двух
шагах,
к закату тянет шею в натруженных узлах
и, словно зачарован, сквозь сумерки глядит,
как Мраморное море сияние струит.
И я гляжу, как тени сгущаются нежней,
Босфор качает мачты несметных кораблей,
и жарко оплывают на небе облака,
на ослика гляжу я, и грусть моя легка.
Ведь этот смирный ослик, привыкший тяжко жить,
всегда молчит, хоть ревом способен оглушить.
О, как я благодарен за все ему сполна –
философом недаром прозвали молчуна.
Его кривая шея, покорная рукам,
и шкура, что от петли истерлась по бокам,
и поза – словно трагик, он выпрямился в рост, -
и горестно поджатый болтающийся хвост…
Осел, дитя природы, как прост однако он,
но вечностью отмечен и дивно обрамлен
безбрежностью заката, бездомностью его…
История немая Востока самого.
1910г.
СОБАЧЬЯ ДУША
В кафе Пти-Шан, притворно оживленном,
среди цветов и парочек влюбленных
я пил глотками белое вино,
и мне закат подмигивал в окно.
На сцене пышной в залпах фейерверка
с надрывом пела пышная венгерка,
и похотливо щупали атлас
зрачки турецких людоедских глаз.
С холма, в потоке шумного курорта,
квартальных псов облезлая когорта
дивилась чуду – всякого сразит
собачьей неги трогательный вид.
И думал я о шкуре их ничтожной
(пес Ламартина был куда вельможней,
он проучил злодея, друга спас),
о том, что жизнь собачья и у нас.
Вдруг ринулись они быстрее молний –
породистую суку с мордой томной
вел господин… вечерний моцион
в Европе чтут, как нравственный закон.
Пока зеваки, гонором задеты,
во все глаза глядели и в лорнеты,
дряные псы свирепою ордой
уже сбежались к сучке молодой.
Душа собачья! Ты открылась явно…
Когда сломить пытались мы бесславно
паразитизм знакомства, флирта шик,
ты, словно враг, ощеривалась вмиг.
Душа собачья, как тебе дознаться,
что мы родимся чернью или знатью,
и нам, прямым наследникам, видней,
что благородство вечности длинней.
Ничтожество без имени и рода,
ты знаешь только ненависть исхода,
жестокий холод, дикое битье
и бремя семидетное свое.
Ты бедствуешь, никак не допуская,
что есть еще хвостатая такая,
которой жить позволено сытней,
чем квартирантам с улицы твоей.
1910г.
ЗВЕЗДА
По вечерам, когда залив заката
Скользнет светило царственно и свято,
А меж теней мрачнеет гордых гор гряда,
Я на тебя смотрю, вечерняя Звезда.
Небесное твое сокрыто имя.
Я о тебе не говорю с другими.
Одно лишь знаю: с детства раннего всегда
Я на тебя смотрю, вечерняя Звезда.
Все там же ты – мерцания чудесны,
Улыбка трепетна высшей бездны!
Пусть мириады звезд струят свой свет сюда –
Я на тебя смотрю, вечерняя Звезда.
Что мне в недостижимом их покое?
Лишь до тебя одной – подать рукою.
Ты одинока, златовласа и чиста.
Я на тебя смотрю, вечерняя Звезда.
О, световой мираж! Ты есть и нету.
Надежда безнадежная - поэту.
До дрожи век смотрю я вверх и вверх – туда…
Я на тебя смотрю, вечерняя Звезда.
Глоточек песни – жизнь людей. И все же
Надежда лжет в лицо нам всем, о Боже…
Стара душа моя, но очи навсегда
К тебе прикованы, вечерняя Звезда…
Силиври, 3 сентября 1909г.
СМЕРТЬ ПОЭТА
На рассвете златокосом
В путь пустился я по розам,
И по мяте, и по росам…
И листва не трепетала,
Словно спал в ней Бог устало.
Лишь река вовсю рыдала…
Над речной дрожащей ряской
По волне журчащей, тряской
Отрок плыл под бледной маской…
Музе лилию в печали
Нес он к самой дальней дали.
«В добрый путь!..» – цветы кивали…
Это тень моя, двойница!
Убежать бы, схорониться…
От тебя, увы, не скрыться…
Этот отрок – я. И эта
Смерть – моя в бреду рассвета.
Грянет скоро тьма поэта…
Свеж цветок еще. Но строго
По слезам бежит дорога
В океан – к чертогу Бога…
1911г., март, вечер, написано за час.
ИХ ИСТОРИЯ
Явь или виденье? В пепельных полях
Лежит людской непогребенный прах.
Здесь пирамиды из костей дорогу
Нащупывают вверх – проклятьем Богу.
История костей? Ответа нет.
Кто это племя превратил в скелет
Во глубине столетий, до потопа?
Какие допотопные циклопы?
Что за источник – нет его лютей –
Воинственную горсточку людей
Вдруг напоил в их час последний, слезный
Кровавою отравой смертоносной?
Зола костров, раскиданных окрест,
Поведала мне: «Племя этих мест
Века сражалось с силою любою,
С войной сражалось и с самим собою:
История? Скелеты без гробов
Да черепки разбитых черепов,
Да храмы в пепле, да костей пустыня,
Да слезы с кровью – вот что здесь доныне.
Я крикнул: «Кости! Оживите вмиг!»
И с костью кость срослась под этот крик.
Плоть наросла, оформилась, окрепла,
Дыханье обрела, восстав из пепла.
И тут же – будто не было конца –
Вцепился в друга друг, а сын в отца.
О, как свирепо бились кости эти,
Восставшие из пропасти столетий!
И вскоре полегли все вместе вновь.
«Вы – люди…» – прошептал я, видя кровь.
Но старец вырос на полегшем стане
И разрыдался вдруг: «Они – армяне…»
Шампери, 9 августа 1910г.
СОН
Красива? Не разглядывал ее я.
Но как-то ночь проплакал досветла,
Вообразив лицо ее родное…
Когда со мною оказалась рядом,
Не знаю… Для меня она была
Нежнейшим отрочества ароматом…
Наш возраст нами безмятежно правил.
Она сказала: «Поцелуй…» Смущен,
Я собственную щеку ей подставил…
Коснулась ли она меня устами?
Не ведаю… То был всего лишь сон –
Из тех, что мглой души проходят сами…
Лозанна
КТО-ТО ПЛАКАЛ…
Я на высоких скалах ждал
Своей кончины – без волненья,
Уже готовый пасть со скал,
Как пожелтевший лист осенний.
Внизу, у моря, где-то там,
Навстречу бледному закату
Прошла влюбленная чета –
Рука в руке была зажата.
Взирали трепетно они
На буйную волну шальную
И обнялись, соединив
Уста в горячем поцелуе…
И было хладно и темно,
Осенний лист спадал во мраке,
И знать им было не дано
О том, что в выси кто-то плакал…
ЛЮБИ
Все: всхлипы ручейка в саду,
Роса, росток, цветок в меду
И птаха, с высотой в ладу, -
«Люби, - внушают, - ведь умрешь!»
Взовьются годы в облака.
И дрогнет с лирою рука.
И голос вновь издалека
«Люби, - мне скажет, - ведь умрешь».
И мотылек, и ветерок,
Эфир, зефир свой говорок
Несут: «Все прочее не впрок,
Есть лишь любовь - ведь ты умрешь».
Прикрыв глаза, иду вперед.
Люби, душа!.. Вот поворот…
Горячий пепел… Голос тверд –
Он говорит: «Теперь умрешь…»
ЖЕМЧУГ
Смешное существо, ничтожней не бывает,
в две створки грубые навек заключено,
во тьме своей о чем-то размышляет,
ты скажешь: черный камешек оно.
Но в раковине – жизнь! И чувствует, и плачет.
В двух грубых створках, вскрытых в бирюзу,
она жемчужину чарующую прячет –
свою в кристалл отлитую слезу.
И вовсе не беда, что душегуб нагрянет
и вырвет влажный перл из розовой горсти –
прекрасный камень ярче заиграет
на обнаженной девичьей груди!..
* * *
Не счесть и тех свидетелей немых
блистательного жизненного пира,
творцов, что чахнут в кельях гробовых…
Но им поет божественная лира.
Она страдает, плачет в их руках
за нас с тобой, за всех бедняг усталых,
но сонмы песен, зреющих в слезах,
нам отольются в радужных кристаллах…
И что с того, что рано смерть придет
и всех сразит бесчувствием безумным –
в устах прекрасных песня оживет
и вспыхнет влажным взором девы юной!..
* * *
О капризница нового бала, не сетуй
на забывчивость, вспомни хоть раз
о жемчужине этой и песенке спетой.
Что кристальной слезой отлилась…
ЖЕНЩИНА ГРЕХА
С небес мечты в трясинный дол,
из одиночества в тиски
вниз, вниз покорно я сошел,
вдруг устрашась своей тоски.
Я ветру цвет любви отдал,
надежду смял по лепесткам,
оплакав горный трон, я пал,
припал к семи его столпам.
В топь из хаоса, в хорвирап,
(бездна, яма (арм.))
сошел и взял тебя я в плен,
черней греха (о, как я слаб!)
и огнедышащей геен.
Не знала ты, владея мной
вишапьим телом, как в бреду,
(дракон, гидра(арм.))
что в этот час во тьме ночной
сам Бог гостил в твоем аду.
ВЕТЕРОК
Откуда веешь, вешний ветерок?
-Лечу с теснин, с заснеженных вершин,
равняя горы с травами равнин,
лечу мой сад цветущий навестить.
Откуда веешь, летний ветерок?
-Из поцелуев, свежего дыханья,
ручьев звенящих и благоуханья,
лечу сухие розы окропить.
Откуда ты, осенний ветерок?
-Бутоны пышных роз в саду моем
увяли лепесток за лепестком…
Дай отыскать мне вечную весну…
Откуда веешь, зимний ветерок?
-Напрасны сны и вечной нет весны,
лечу в поля мои, чтоб валуны
укутать мхом и выплакаться всласть.
Также по теме:
Поэзия Сиаманто